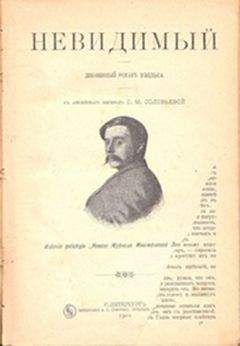— Переведи на отечественный язык, — попросил я.
Иван Эдуардович усмехнулся. Какой-то холод вокруг, непонятное мне отчуждение. Никто из-за стола не поднял головы, было непривычно спокойно в комнате. Вдруг я поймал быстрый, настороженный, мгновенный, как укол, взгляд Дарьи Тимофеевны.
— Ваш заместитель в курсе всех событий и болезней, — сказал Владик и поморщился.
— Однако! — удивился я. — Как, оказывается, ты умеешь изъясняться, Владислав. "В курсе всех событий" — это слова мужчины, а не мальчика. А каких именно событий?
— Разрешите мне, — вступился Иван Эдуардович.
— Разрешаю.
— Я бы хотел… лично.
Антонов еще поморщился.
— У тебя что, зуб мудрости прорезывается? — спросил я.
— Нет, с зубами порядок. Показать?
Он открыл пасть, но не мне, а Самсонову продемонстрировал все свои желтоватые клыки, а заодно и розовый чистый язык.
— Ступай, ступай, трудись… Прошу вас, Иван Эдуардович. — Я невольно втянулся в их стиль, подозревая, что это какая-то новая веселая игра.
Самсонов опустился на стул и совсем близко придвинул ко мне огромные уши и лицо ковбоя с резкими скулами и точеным носом. Увидел, что у него влажная, с крупными порами кожа.
— Видите ли, Степан Аристархович, в ваше отсутствие произошли некоторые… э-э… неприятные события. Мною замечено, что сотрудники — некоторые, разумеется, — работают без усердия, без должной проницательности. Много времени тратят на пустые разговоры, невнимательны. Этот Антонов дважды опаздывал на работу, один раз на полчаса.
— Гнать в три шеи тунеядца! — вставил я.
Ободренный поддержкой, Самсонов заторопился:
— Катерина Викторовна допустила ошибку в расчетах, меня вызвали на ковер к шефу. Павел Исаевич приказал мне принять меры. Я, поймите меня верно, попал в неловкое положение: с одной стороны, приказ шефа надо выполнять, а с другой стороны, я тут без году неделя, люди меня не знают. Могут неправильно истолковать.
— Что же вы предприняли?
— Объявил выговор Антонову, Болотовой и Дарье Тимофеевне.
— А ей за что?
— Она дурно влияет на молодежь, позволяет себе безответственные заявления.
— Какого рода?
Самсонов замялся:
— Ну, она, например, сказала, что я — новая метла. Оскорбляла в присутствии коллектива… Еще назвала меня шишкой на ровном месте. Все это подрывало мой авторитет.
— А он у вас уже был к этому времени?
Иван Эдуардович улыбнулся нежной красивой улыбкой превосходства.
— Степан Аристархович, буду до конца откровенным. Понимаю, что у вас своя методика работы с подчиненными, на мой взгляд, неверная. Заигрывание с сотрудниками, ложно понятый демократизм привели к анархии, недопустимой на производстве. Собственно, об этом я написал в докладной записке на имя директора института.
— Какой записке? Вы уже и записку написали?
— Не мог поступить иначе. План под угрозой.
— И о чем вы писали в докладной? Об опоздании?
— Не помню.
Я никак не мог сосредоточиться и уловить внутренний смысл разговора — в голове был какой-то гул, как в токарном цеху.
— А что все-таки с Катей? — спросил я в испуге.
Теперь улыбка Самсонова была откровенно торжествующей и с оттенком любопытства в мой адрес.
— Она позвонила и сообщила, что больна, это было пять дней назад. Надеюсь, у нее имеется больничный лист.
Тут по селектору меня вызвал Заборышев.
— Благодарю вас, Иван Эдуардович, спасибо!
Он пожал плечами и вернулся за свой стол. Я не смог сразу встать и с тоской глядел, как покачивается его широкая спина, как надежно и твердо ступает он по нашему старенькому коврику.
Павел Исаевич добродушно поздравил меня с выходом на службу, порасспрашивал о деревенской жизни. Я из вежливости пробормотал что-то положенное о чистом воздухе и целебных рассветах.
Заборышев:
— К двум часам готовься, Степан, пойдем к директору.
— Зачем?
— Объясняться будешь. Твой заместитель телегу накатал. Да ты ведь знаешь, поди?
— В общих чертах.
— Я тоже в общих.
Павел Исаевич произносил фразы бесстрастно, ничем не выдавая своего отношения к случившемуся. Это меня обидело, но настаивать на откровенности я не стал, хотя мог бы. Все-таки много лет мы знакомы, помнил Заборышева, еще когда у него печень не болела, и он был веселым и остроумным начальником, и на столе у него всегда были накиданы новые журналы. Он всегда спрашивал: а эту статью ты читал, а эту читал? Что было, то прошло.
Я был уже в дверях, когда Павел Исаевич сказал, надувшись:
— Погоди, Степан. Еще такое есть дельце. Что будем с Болотовой решать? Плохо очень ведь работает, не справляется… А у тебя, говорят, с ней… это…
— Кто говорит?
По лицу Заборышева, как мячик, прокатилась скука, взгляд погас. Суета, связанная с женщинами, была в его жизни позади. Неинтересно ему было размусоливать эту тему.
— Не знаю, кто и что вам доложил, — объяснил я, не дождавшись ответа. — Но думаю, что за такие сплетни надо языки отрывать.
— Это не я выдумал, — улыбнулся Павел Исаевич. — Какой ты раздражительный после отпуска!
Тут я и ляпнул:
— Может, мне заявление написать об уходе?
А он ответил:
— Ты бы привел себя в порядок, Степан Аристархович. Не каждый день у директора в гостях бываешь. Прими седуксен.
Седуксена у меня не было, и до обеда я просматривал бумаги, накопившиеся за две недели. Как всегда, в отчетах было много грамматических ошибок и странных оборотов. По стилистике я мог без труда определить, кто писал. Особенно люблю подшивать труды Владика. Он иной раз лично для меня вставлял в сугубо канцелярский текст поэтические перлы, очень смешные. Это была наша с ним маленькая тайна. Я много раз наедине втолковывал ему, что "заметки на полях" — лишняя работа машинистке, и если они попадут на глаза начальству, не миновать ему выговора. Он в ответ прикидывался идиотом.
— Антонов! — крикнул я.
Он приблизился, подобострастно выгибая шею.
— Что это такое "сноску № 41 см. выше-ниже"? Как это "выше-ниже"?
— Описался, — сказал Владик.
— Смотрите, Антонов, "выше-ниже". Ходите по краю.
— Родному? — устало сострил юный специалист.
Я отложил бумаги и спросил:
— Что с Болотовой? Можешь мне сказать без юродства?
— Она больна, Степан Аристархович. Что-то у нее с сердцем.
И опять, как недавно в деревне, я подумал о смерти. Подумал не о своей смерти, а о Катиной подумал, что Катя может умереть. "Если она умрет, как же мне тогда?"
К директору, Вадиму Григорьевичу Коростылеву, мы явились ровно к двум, и сразу его секретарша Танечка нас впустила.
У Вадима Григорьевича большой кабинет, и в нем много стульев с кожаными сиденьями и длинный стол для заседаний. Директор сидел далеко в углу за маленьким журнальным столиком и помахивал нам рукой, как гостям в ресторане.
— Давайте, — сказал он. — В темпе обсудим. У меня десять минут… обязан отреагировать… Точнее, мог бы спустить письмо в профком, но товарищ Самсонов некоторым образом мой протеже. Верно?
— Верно, — сказал Павел Исаевич.
Я ждал, когда директор пригласит нас сесть, но он не пригласил.
— Он что, как? — быстро спрашивал Вадим Григорьевич, снизу заглядывая на нас. — Дельный работник? Нет? Как он?
— Не успели разобраться, — ответил Павел Исаевич и опустился неловко на низенький стульчик.
— А ваше мнение?
— Был в отпуске.
— Ах да! Ну и что будем делать?
Тогда я тоже сел.
— А что делать?
— Записка там в столе, — показал директор пальцем на окно, — но помню. Там сказано, что вы… э-э…
— Степан Аристархович?
— …что вы, как это, заигрываете с подчиненными, развели что-то такое… — Директор показал руками круглый шар. — Короче, не справляетесь, Степан Аристархович. Дело страдает.
— Никоим образом, — возразил Павел Исаевич, делая вид, что озабочен.
Я заерзал на стуле, тоже как бы возражая и возмущаясь. Но разговор меня не слишком волновал — я его толком и не понимал, думая о Кате Болотовой. Что же с ней такое? Молодая, как это может быть — сердце, нервы? Зачем? Смерть ходит по земле, она и в этом кабинете, в печени Павла Исаевича, и там, где Катя. А мы беседуем о совершенно невинных вещах, как будто не существуют страдания, никому не больно и осталось решить только один вопрос — наладить отчетность.
— Новый товарищ не разобрался, поспешил, — продолжал Павел Исаевич. — Кроме того, не одобряю таких способов информации.
— Ну-ну! — поморщился директор. — Что же у вас, тишь да гладь — божья благодать?
— По-всякому бывает, — сказал Павел Исаевич. — Однако заметных срывов нет.
— И вы так считаете?
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113839/113839.jpg)
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/112708/112708.jpg)